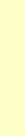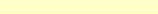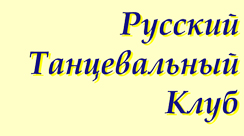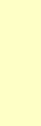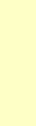Люка Дебарг: блистательный реванш
28.08.2018
 Люка Дебарг. Фото – Анна Французова
Люка Дебарг. Фото – Анна Французова
Рецензия на концерт в Санкт-Петербурге.
Осеннее выступление в Концертном зале Мариинского театра существенно отличалось от прежних концертов Дебарга в нашем городе.
За весьма небольшой срок петербуржцы успели пережить волну упоения игрой молодого француза, а потом и некоторого пресыщения, смешанного с разочарованием. И вот — новый виток спирали. Потому что на этот раз перед нами предстал другой Дебарг.
Концерт стал своеобразным реваншем: именно игра с оркестром оказалась слабым звеном и помешала Дебаргу получить высшие баллы на Конкурсе имени Чайковского. Петербуржцы имели возможность убедиться в справедливости решения жюри, послушав в сентябре 2015 года оба конкурсных концерта (Лист и Чайковский).
На этот раз звучали Концерт № 1 Равеля и Второй фортепианный концерт Прокофьева.
Оба сочинения рассчитаны не на вольное высказывание пианиста на фоне оркестра, а на постоянное активное взаимодействие музыкантов, требующее в том числе единства темповых решений. Планка не просто поднята на новую высоту: это преодоление прошлого опыта, когда пианист-дебютант чуть ли не боролся за место в ансамбле и в «отвоеванные» сольные минуты почти забывал о существовании оркестра.
Перед нами не тот Дебарг, который вслед за слушателями — и себя самого завораживал звучаниями, выходящими из-под пальцев. Еще в апреле он выступал в составе трио с братьями Давидом и Александром Кастро-Бальби — это напоминало аполлонические игры: молодые люди забавлялись запредельными темпами, уносились вперед без оглядки.
Рецензируемая программа ставила перед исполнителем другие задачи. Дело даже не в том, что ни Прокофьева, ни Равеля невозможно играть «на скорость» — высокий технический уровень здесь подразумевается apriori.
Их соединение в одном концерте требовало внутреннего решения. Дебарг не противопоставляет романтичного, полного воздушной загадки Равеля угловато-саркастическому Прокофьеву. Это «французский взгляд»: в графику прокофьевских линий пианист словно добавляет цвет: аккордовые созвучия «футуристического» концерта окрашиваются в импрессионистические тона.
И напротив, начало равелевского концерта он играет очень легким штрихом. Побочную же партию фортепиано начинает как будто застенчиво, чуть запинаясь, — и оркестр подхватывает фразы, словно подсказывая пианисту, поддерживая его.
Дебарг подчеркивает присущие обоим композиторам черты неоклассицизма, бойкое искрящееся игровое начало. При этом особенно важным становится «соблюдение правил», позволяющее выстроить взаимодействие солирующих тембров и групп.
В стремительных быстрых частях (Presto Равеля, Scherzo и финале Прокофьева) требуется высочайшая дисциплина — они пронизаны ясным пульсом, биением сильных долей, подчеркиваемых крайними точками бурных пассажей. Масштабные сольные каденции продолжают логику общего движения, разрастаются, достигая объемной полипластовой звучности.
Лишь меланхоличный вальс-воспоминание, вальс-одиночество в начале равелевского Adagio исполнен безыскусно просто и оттого особенно пронзительно.
Оркестр, следуя жесту Валерия Гергиева, затевает и собственную игру: то вклинивается в легкие летящие пассажи преувеличенно неуклюжее glissando тромбона, то вместо рояля, подхватив его материал и имитируя его фактуру, вступают две арфы, то тема, почти незаметно меняя тембровую окраску, перетекает от фаготов к валторнам, а от тех — к виолончелям.
В этой захватывающей игре у каждого — своя роль, и общая гармония достигается благодаря высокой слаженности, единому току, пронизывающему музыкантов и передающемуся залу.
Третьим (вернее, первым, поскольку этим сочинением открывался вечер) в программе был Римский-Корсаков. Благодаря тому что оркестровую сюиту на основе материала оперы «Золотой петушок» написали два близких ученика композитора — А. Глазунов и М. Штейнберг, в ней нет ни одной «посторонней ноты».
Все, на что решились верные соратники композитора, — сделать купюры, а также опустить в ряде случаев вокальную или хоровую партию. То есть мы слышим оркестровую партию оперы: это яркая, живая партитура, лишенная, однако, собственной внутренней логики развития. Она сопряжена со сценическим действием, и лишь некоторые фрагменты (например, «Славление») представляют собой вариации (все же звучащие без хора несколько пустовато).
Думается, что сам композитор не ограничился бы простым переносом музыки из одного сочинения в другое, иначе расставил бы акценты, создав полновесное произведение. В любом случае, у петербуржцев есть возможность посмотреть саму оперу. И все же любопытно, оказывается, переслушать только оркестр, удивляясь мастерству, выдумке, колористическим находкам композитора.
Мы же предлагаем вглядеться в интересное сочетание, выстроенное этой программой. Два русских композитора — и один французский (и еще один в завершение концерта: на бис прозвучала умиротворенная и светлая Баркарола Форе, опус 44, № 4, ля-бемоль мажор).
Римский-Корсаков и Равель представлены поздними произведениями, Прокофьев — ранним. Для Римского-Корсакова и Равеля характерны красочность, картинность, звукопись, а еще — ориентализм. Впрочем, для Римского-Корсакова это воображаемый Восток, тогда как у Равеля экзотика помимо условной «Испании» представлена отсылками и к Стравинскому периода «Петрушки», и — к Гершвину.
Прокофьева и Римского-Корсакова роднит ирония, доходящая местами до сарказма. Равеля с Прокофьевым — концертность, а также токаттное начало в быстрых частях циклов. Всем трем удаются сказочные образы, для всех характерна ясно передаваемая музыкой пластика движения.
Благодаря Дебаргу (а в этом концерте также и каждому из музыкантов, составляющих оркестр Мариинки, и, безусловно, Валерию Гергиеву) мы — присутствующие в зале — вновь переступаем грань, за которой музыка перестает быть только удовольствием, только мыслью или чувством, оформленным в звуках, — она сливается с нами, с нашим дыханием, становясь сердцевиной нашего существования.
Евгения Хаздан, “Санкт-Петербургский Музыкальный Вестник”